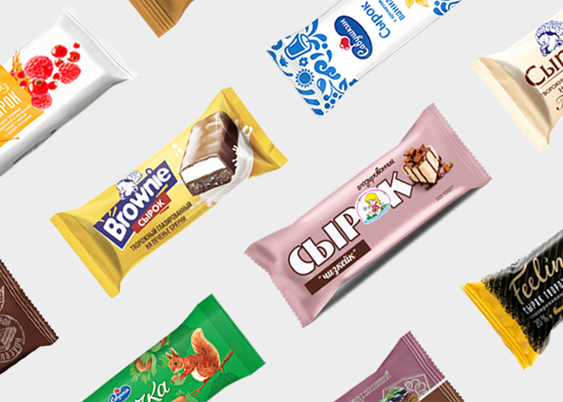Что смотреть, слушать и читать в эти прекрасные выходные.
.jpg)
Альбом «Hug of Thunder»
Broken Social Scene
Лет десять назад американская пресса заметила, что из Канады валом прет инди-рок, и его не только много, он не просто хороший, но все его основные игроки как-то друг с другом связаны, вместе играют или играли в группах и производят впечатление именно «волны» – то есть чего-то, что в американской музыке не существовало со времен гранжа. Много говорилось про общность, душевность и непосредственность групп, где пели и играли наравне мужчины, женщины и люди, которые ни петь, ни играть не умели. Году к 2011-му в США эта «волна» стала общепризнанно одним из важнейших явлений популярной музыки нулевых, и дело кончилось вручением Arcade Fire «Грэмми», после чего про все эти группы моментально забыли, а сами Arcade Fire как бы по умолчанию оказались той единственной группой, которая имела значение для истории. Свежий альбом канадской группы Broken Social Scene вносит в уже вроде бы окостеневшую концепцию необходимые изменения. Первое и главное: именно Broken Social Scene, а не Arcade Fire – лучшая канадская группа эпохи.
За легендой о дружности и семейственности Arcade Fire, как оказалось, все это время скрывались мормонские U2, способные записать парочку стадионных боевиков для очередного мирового турне, но в конечном итоге ужасно старомодные и в смысле сочинительства, и в смысле устройства группы. Broken Social Scene возникли чуть не двадцать лет назад как ленивый и разболтанный пост-рок-проект двух неудачливых канадских гитаристов, которые решили тащить на запись всех своих знакомых просто потому, что сами по себе ничего особенного не могли ни сказать, ни сыграть. Слово «пост-рок», в наших краях обозначавшее «метал без вокала», в Канаде служило как бы разрешением музыкантам примешивать к инди-року более легковесные жанры, поэтому ко второму альбому звук группы налился до оркестровых масштабов: по-филспектровски пышные и зычные инструменталы в духе Yo La Tengo (то есть много баса, сырые барабаны и минимум гитарных излишеств) в минуту превращались в шугейз, потом вплывали духовые, а потом начинал петь кто-то из множества вокалистов, а то и все разом. Записанные таким образом альбомы «You Forgot It in People» и «Broken Social Scene» до сих пор звучат восхитительно – это подлинные шедевры небрежного, живого, очень удачно передающего удовольствие от хорошего гитарного концерта звука, который при этом напоен множеством просто невозможных на обычном концерте поэтичных деталей.
«Hug of Thunder» – всего лишь пятый альбом Broken Social Scene: чтобы сохранить раз достигнутый уровень, создатели группы Кевин Дрю и Брэндан Каннинг решили не тормошить талантливых, разбредшихся по собственным успешным группам друзей и записываться, только когда снова захочется именно того угара счастья, которым так полны их прошлые альбомы. Решение оказалось правильным – альбому, в общем, не нужно даже делать скидку на то, что все участники перевалили за сорокет, настолько он пышущий энергией, остроумными решениями и богатый мелодиями. Буйные вещи вроде «Protest Song» звучат естественно и заразительно, нежняки вроде «Hug Of Thunder» выходят естественно и чувственно. Увы, то, как состыкованы сырые и словно спьяну сыгранные партии инструментов, перестало быть отдельным произведением искусства и альбом звучит просто красиво, примерно как недавний альбом Slowdive. Но анархический и одновременно избыточно щедрый подход к записи песен все еще отчетливо слышен, и спутать Broken Social Scene с другой инди-группой все еще невозможно.
Странно говорить такое про альбом группы, которой почти двадцать лет, но «Hug of Thunder» – кажется, лучший «летний» (расслабленный, но энергичный, счастливый, но не приторный, ну и так далее) альбом этого года. Не проходите мимо. А.С.

Фильм «Долгий путь Билли Линна в перерыве футбольного матча»
Благодаря одному героическому моменту, запечатленному на видео, 19-летний солдат иракской войны Билли Линн возвращается на пару недель в Америку, где в рамках пресс-тура дает путанное и неловкое интервью, а потом исполняет роль массовки для выступающих в перерыве футбольного матча Destiny’s Child. Перед Билли одновременно встаёт несколько в равной степени непостижимых моральных дилемм: какую цену запрашивать у агента за права на голливудскую экранизацию подвига; стоит ли, воспользовавшись моментом, уволиться из армии по медицинским показаниям и оставить товарищей; произошло ли в тот самый день что-то на самом деле героическое.
Дебютный сценарий Жана-Кристофа Кастелли с первых минут фильма выглядит уж очень наивным и расфокусированным и совсем не располагает к логически последовательному восприятию сюжетных элементов. Кто вообще такой этот Билли Линн? Неотёсанный реднек, уважающий своих «бро» больше собственных родителей и без лишней скромности соблазняющий девчонку-чирлидершу прямо посреди пресс-конференции, или же сломленный войной интроверт с лицом ангельской невинности, которому родная сестра (нежнейшая Кристен Стюарт) просто обязана помочь избежать возвращения в Ирак? Сюжет с голливудской экранизацией истории взвода – это саркастичная сатира на гордость американцев за позорную войну, или, наоборот, искреннее восхваление мужественности и неподкупности солдат вопреки цинизму Голливуда? Вообще весь фильм – это комедия абсурда или же драма с оскаровскими амбициями? Если комедия, то почему у Вина Дизеля и Кристен Стюарт такие невыносимо грустные лица? Если драма, то как можно на полном серьезе воспринимать эту инфантильную патриотическую белиберду? Наконец, в чём именно состоит итоговый посыл этого фильма со смехотворно мелодраматической концовкой прямиком из какого-нибудь аниме?
Если позволить сценарию сложиться в финале в единый узор, то становится совершенно понятно, что у этого фильма нет и не может быть никакого легко проглатываемого «месседжа»; он вообще не заинтересован в какой-либо драматургической конкретике. Суперзвезда тайваньской новой волны Энг Ли на этот раз снимает ещё тоньше и нежнее, чем снимал свои предыдущие американские шедевры – «Ледяной ветер» и «Горбатую гору». Неудивительно, что в данном случае даже его большое техническое новаторство (фейерверки на концерте и зарифмованная с ними иракская перестрелка сняты в беспрецедентно гиперреалистичных 120 кадрах в секунду; трехмерное пространство между персонажами то и дело наполняют парящие в воздухе мобильные интерфейсы образца 2007 года; болезненный флешбек в кульминации фильма просачивается в реальность в виде высокотехнологичного коллажа из галлюцинаций) не спасло этот эфемерный фильм без героев и злодеев от провала в глазах как киноакадемии и критиков, так и зрителей. В мире, где мы живём, любая личная история вроде истории Билли Линна мгновенно наделяется идеологическими и драматургическими смыслами, и потому такая искушенная констатация искренних чувств, субъективности точки зрения и непостижимости законов внешнего мира – это по-настоящему захватывающая территория, на которой, например, построил своё творчество знаменитый писатель-метамодернист Дэвид Фостер Уоллес.
Неожиданно для всех Энг Ли поднял в своём фильме гораздо более глобальные вопросы, чем можно ожидать от ещё одного американского фильма про войну в Ираке. Как и любой не просто мастерски сделанный, а по-настоящему великий фильм, «Долгий путь Билли Линна» оказывается на порядок лучше, чем сумма его составных частей. При этом глубинные механизмы его работы при взгляде извне кажутся такими сложными и совершенными, что становятся неотличимы от магии. Н.Л.

Сериал «Блеск»
До раздражения трудолюбивая, но неудачливая актриса Рут (Элисон Бри из «Сообщества») в разгар проблем с работой, деньгами и личной жизнью соглашается на участие в женском рестлинг-шоу на маленьком кабельном канале, которое будут показывать утром, между азиатским детским мультиком и ток-шоу местного проповедника. Вокруг восьмидесятые, мужские шоу про рестлинг уже подарили миру Халка Хогана, но женского варианта пока нет. Кроме Рут, в проект вписались еще дюжина типажных девушек с проблемами и мотивацией разной сложности. Чтобы вместе пройти горести и трудности, открыться друг другу, стать лучшими подругами и победить под жизнеутверждающий саундтрек хитов Journey, Пэт Бенатар и Roxette.
«Блеск» – продюсерский проект Дженджи Коэн, которая в прошлом своем успешном сериале «Оранжевый – новый черный» просекла, что чем больше персонажей, тем легче двигать сюжет и очерчивать характеры героев. История может длиться бесконечно, а любого выжатого или наскучившего персонажа можно отправить на скамейку запасных или вывести еще дюжину новых на первый план. А тут еще и придумывать персонажей не надо было – история основана на реально выходившем в 80-е рестлинг-шоу, в ютубе можно найти много сохраненных выпусков. «Блеск» – такое же ностальгическое доброе кино из детства, как и прошлогодний хит Нетфликса «Очень странные дела». Добро победит. Это будет несложно, так как в первом сезоне с трудом можно отыскать плохих персонажей. Все плохое поведение, которое они себе позволяют, происходит от того, что жизнь вынуждает, а сами они просто грустные неудачливые персонажи. Дженджи Коэн на таких собаку съела.
Сейчас рестлинг – большой и популярный феномен в Америке со своими локальными суперзвездами, подобно селебрити из реалити-шоу. ТВ-рестлинг работает на дикой смеси из мыльных опер, нарочитого китчевого безвкусия и зрелищных постановочных драках. А женский, конечно, еще на сексплуатации. Буквально, разодетые рестлеры обоих полов дерутся не ради техники и победы, а потому что кто-то увел чужого мужа или девушку или чтобы отстоять американскую честь перед коммунистической красной угрозой. И в сериале эта формула показана прямо в лоб (даже есть девушка, которая снималась в мыльной опере, пока ее персонажа не отправили в кому, и которая только благодаря этому рабочему опыту смогла наконец понять, что же от нее хотят на ринге – мыльную оперу с прикольными драками). За кулисами рестлинга у персонажей плюс-минус тоже мыльная опера: склоки из-за мужей, объявляющиеся во взрослом возрасте дети, беременности и аборты. «Блеск» не пытается раскопать, как рестлинг стал таким (а хотелось бы), но имеющиеся комедийные ресурсы использует.
В прессе все, конечно, без ума от того, как девушки в сериале приходят к «освобождению» через стереотипных персонажей, которых им дали играть на ринге. Девушка с британским акцентом на ринге становится «Профессором Британикой» с декольте, игривым халатом и в очках. Азиатка превращается в болтливую «Печеньку счастья», образованная индианка в «Террористку Бейрут», черная женщина в крикливую и ленивую «Королеву талонов на еду». Славянам отдельно будут интересны попытки Элисон Бри изображать русскую коммунистку. Нарядившись во взбалмошные, и скорее всего, оскорбительные стереотипы, девушки придут к принятию себя и станут счастливее.
Но самый интересный сюжетный твист происходит в производственной части. Молодой и неопытный продюсер втолковал режиссеру не только, что сценарий не должен быть сложной творческой историей про ядерную зиму, но и что девушки не должны быть сложными персонажами. Правота продюсера – не самый популярный ход в кино о видеопроизводстве, но совершенно логичный. Из режиссера и продюсера именно второй является фанатом рестлинга и мечтает сделать классное шоу с женщинами в главной роли. И развлечение в итоге, и хороший урок на многие случаи жизни. А.П.
.jpg)
Комикс «The Making of»
Брехт Эванс
Не особо успешный, но амбициозный художник средних лет отправляется участвовать в биеннале современного искусства, которое, вероятно, может стать для него большим прорывом. Правда, по приезду выясняется, что проходит оно в каком-то богом забытом захолустье, куратор с трудом разбирается в искусстве, все остальные художники – фрики или просто любители, жить ему приходится в халупе, а само понятие «биеннале» в данном случае вообще стоит взять в кавычки. Впрочем, художник решает не отчаиваться, а взять процесс в свои руки, почувствовать свое превосходство и заодно вспомнить про свои амбиции, а потом конкретно облажаться, так как почти все сразу пойдет совсем не так.
«The Making Of» бельгийца Брехта Эвенса можно отнести ко всем этим высоколобым комиксам, которые длинные, умные, рассказывают о чем-то важном и нарисованы как-то классно. В данном случае все нарисовано акварелью, а, по сути, это ироничный гид по миру современного искусства, кураторства, выставок и всего такого прочего. Каждый из «провинциальных» художников, которых встречает главный герой на биеннале, будто бы представляет те или иные типажи реальных художников – например, чувак, который непонятно чем вообще занимается, но все равно тут как тут. Им всем, а заодно и читателям, приходится объяснять какие-то базовые штуки вроде задачи, методов и предназначения художника, заодно разрушая границу между «любительским» и «профессиональным» искусством, которая и так тоньше некуда, а здесь и вообще смехотворна тонка. Несмотря на вроде бы серьезную тематику, комикс выглядит совершенно неопрятно и почти мультяшно, да и подводит к довольно легковесному выводу, что главное в искусстве – не идея, исполнение и признание, а то, что вам самим должно быть хорошо, пока вы это все делаете. Художественные критики, вероятно, с такой мыслью вряд ли бы согласились. К.М.
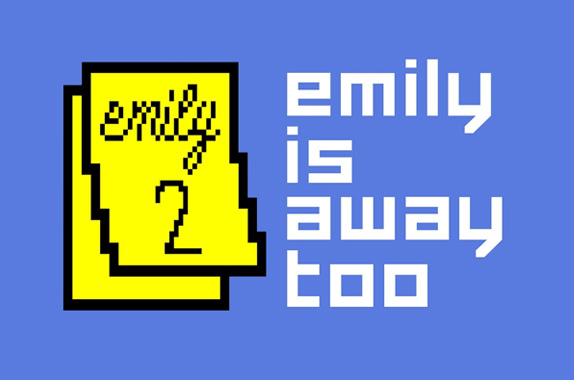
Игра «Emily Is Away Too»
Два года назад вышла небольшая бесплатная игра «Emily is Away» – симулятор мессенджера образца 2002 года, где нужно переписываться с девочкой по имени Эмили, с которой вы вместе ходите в школу и, очевидно, немного начинаете нравиться друг другу. От всех бесконечных симуляторов свиданий и прочих визуальных новелл игру отличало то, что это была сильнейшая доза ностальгии. Весь интерфейс выглядел целиком и полностью как операционки из начала нулевых, звуки сообщений напрямую вырвали из MSN, на аватарку можно поставить обложку группы blink-182 и все в таком духе. Сам сюжет, растянутый будто бы на несколько лет учебы, прокликивался за полчаса, но цеплял любого, кто, еще будучи в школе, застал эпоху ICQ и был скромным неудачником, который только и мог, что в интернете сообщения строчить. В конце концов, как и любая юная любовь, все заканчивалось печально, но с помощью простого и эффектного твиста – вот вы всю игру можете выбирать сообщения, и они на что-то влияют, но в конце у вас эту возможность отбирают, и вы просто смотрите, как ваши виртуальные отношения рушатся прямо у вас на глазах.
В этом году все тот же разработчик выпустил сиквел «Emily is Away Too», где взял такую же идею, только, как и в почти любом сиквеле, умножил ее на два. Вместо 2002 года все происходит в 2007-м (шутку про «вернуть 2007-й» придумайте сами), вместо школы – старшая школа (то есть, по нашим меркам, 10-11 класс), а вместо переписки с одной девушкой теперь можно переписываться сразу с двумя. Заряд ностальгии в этот раз оказался еще мощнее – герои-подростки обсуждают, как они слушают эмо или Arctic Monkeys, ходят на концерты, пытаются купить алкоголь, будучи несовершеннолетними, играют в Sims 2, смотрят «Пункт назначения 3», регистрируются в фейсбуке, пытаются впервые заняться сексом и так далее. Вдобавок в переписке вам кидают ссылки, на которые можно кликнуть и открыть в самом настоящем браузере альбом Senses Fail, песню Sigur Ros или страницу с гифками. Разработчик запарился и создал целую вереницу фейковых и полностью рабочих сайтов, которые похожи на настоящие сайты десятилетней давности – короче, получается максимально точный портрет той эпохи и модных подростков тех лет. К тому же, ностальгия ностальгией, но с нарративом здесь все даже лучше, чем в предыдущей части. «Emily is Away Too» получилась скорее не про любовь и отношения (хотя это тоже есть), а про взросление, планы на будущее и то, как важно понять, чего вы вообще хотите от жизни, пока пялитесь в компьютер все время. К.М.
.jpg)
Статья про стиль француженок
То место, какое в душе интеллигентного белоруса занимает Польша, у интеллигентного американца занимает Франция. Все французское им кажется стильным, изящным и пленительным, поколениями они волокут из Парижа все возможные кремы, мази, туши, помады, наряды и вообще все, что можно использовать для улучшения своего внешнего вида. Свежая статья на сайте «Racked» пытается разобраться в явлении и проанализировать американские попытки сымитировать французский стиль собственными руками.
В качестве героев выступает небольшая компания, производящая псевдофранцузскую косметику, визажист, которую зовут «Виолетта, просто Виолетта», и многие другие. В середине текста появляется знакомая, опять же, белорусам нотка «ну, конечно, они крутые – они же нам подражают!»: выясняется, что французское кино отталкивалось от корявого кино американского, а влиянием рок-н-ролла можно объяснить половину нарядов парижанок. Проговаривают и основные правила идеальной парижанки: никогда не надевайте спортивные штаны, никогда не надевайте ничего ярких цветов и не красьте ярко волосы, не надевайте джинсовые куртки. Но самое важное правило звучит по-философски: всегда думайте, что надеть.
Одна из героинь как про нечто неслыханное рассказывает между делом про свою знакомую француженку, которая работала детским кардиологом (в этом уточнении, конечно, опять видны белорусские читательницы с их извечным «ага, они наряжаются, ну так это потому что за душой ничего и работать нормально не умеют» – приятно сознавать, что американские читательницы такие же) и ходила, понятно, весь день в белом халате, а потом как-то раз вечером в баре попалась ей на глаза в изящном платье в цветы и с элегантно распущенными волосами. Все секреты оказываются такого же характера. Француженки носа из дома не показывают без макияжа, но делают вид, что вообще не красились. Старательно укладывают волосы, как будто растрепанные, сразу после секса выбежали на улицу.
Тут начинается грустная даже для американских читателей часть, а для нас такая, что хоть на стену лезь: французский стиль не только имеет корни в утонченных обычаях артистократии XVIII века, но и имеет с тех самых времен непресекающуюся историю. «Если у вас хорошая стрижка, конечно, вы можете ходить и с растрепанным волосами», – флегматично замечает другой герой. Большинство французских икон стиля имеют такое хорошее воспитание, что легко могут отступать от строгих правил – а куда отступать из Тракторного поселка? Слава богу, с поляками полегче дело обстоит, а то бы совсем жизни не было. А.С.
Фото: Arts & Crafts, Sony / Columbia, Netflix, Dark Horse, Kyle Seeley, Racked